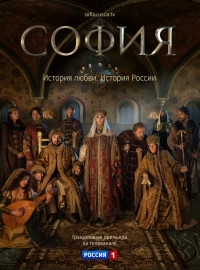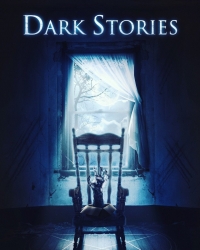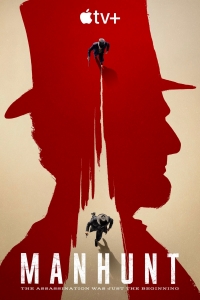Описание
Рецензии
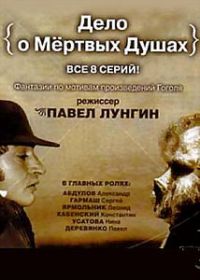
Сериал Дело о Мертвых душах
Актеры:
Александр Абдулов, Иван Агапов, Павел Деревянко, Елена Галибина, Сергей Гармаш, Александр Ильин, Константин Хабенский, Андрей Кочетков, Сергей Колесников, Павел Любимцев
Режисер:
Павел Лунгин
Жанр:
комедия, отечественные, приключения, драмы
Страна:
Россия
Вышел:
2005
Добавлено:
добавлен сериал полностью из 8
(19.07.2010)
Рейтинг:
 7.05
7.05
 6.30
6.30
Вдохновленный бессмертным полотном Николая Васильевича Гоголя, повествование разворачивается вокруг молодого, перспективного столичного чиновника, переброшенного в провинциальный городок N. Его прибытие продиктовано необходимостью расследования – разгадать клубок невразумительных обстоятельств и парадоксальных происшествий, окутавших это унылое поселение. Чичиков, преисполненный предчувствия скорой инспекции, предпринял лихорадочные усилия, рылся в архивах и заглядывал в самые темные уголки, стремясь отыскать недостающие имена, замаскировать мертвые души, дабы обезопасить свою подозрительную деятельность от пристального внимания.
Погрузившись в рутину проверки, Шиллер внезапно сталкивается с чередой необъяснимых феноменов, с чем не мог бы поспорить даже закоренелый скептик. Его охватывает гнетущее ощущение, будто незримый наблюдатель, словно тень, неотступно следует за каждым его шагом. Является ли это лишь плодом его воображения, вызванным провинциальной атмосферой и накопившейся усталостью, или же истина кроется в мистических, окутывающих этот город секретах, что таятся за каждой дверью и за каждым поворотом? Справится ли молодой служитель порядка с задачей проникнуть в суть происходящего, докопаться до первопричин и раскрыть мрачные тайны, при этом сохранив собственное здравомыслие и благополучие? Ему предстоит пройти тернистый путь, полный опасностей и неожиданных открытий, где грань между реальностью и иллюзией становится все тоньше и зыбче.
## Гоголевский калейдоскоп: о телесериале "Мертвые души"
Созерцание телесериала, заявленного как интерпретация по мотивам гениального романа Николая Васильевича Гоголя "Мертвые души", оставило после себя неизгладимое впечатление, граничащее с восторгом. Это не просто экранизация, это причудливая мозаика, сотканная из осколков различных гоголевских произведений, создающая ощущение некоего расширения вселенной, задуманной автором. После просмотра восьми эпизодов подряд, возникает ощущение, что создатели не просто перенесли роман на экран, а осмелились на создание своего, альтернативного продолжения.
Представьте себе, что Чичиков, после завершения своих махинаций, не исчез из поля зрения, а его дело, словно эстафета, перешло к Шиллеру Ивану Афанасьевичу, скромному бюрократу из Петербурга, вынужденному отправиться в Н-ск для расследования. В этом контексте разворачивается сюжет, переплетающийся с чертами «Ревизора». Комическая ситуация, знакомая по знаменитой комедии, вновь воспроизводится: городской чиновничий аппарат, с привычными должностными лицами – городничий, судья, покровитель благочестивых заведений – охвачен страхом перед надвигающейся проверкой, предчувствием "контролера". Фамилии персонажей, сохранившие свою ироничную, "говорящую" окраску, лишь усиливают эффект узнавания.
Размышляя о повести «Шинель», невозможно не заметить, как мотив преображения скромного служащего, обретающего достоинство благодаря новому одеянию, прослеживается в судьбе Шиллера. Этот незначительный предмет одежды становится символом его внутренней трансформации, позволяя ему взглянуть на мир под другим углом. В летописи прокурорского мира всплывает отсылка к «Вии», где фигура протагониста, лишенного покоя и отдаленно напоминающего свинью, символизирует внутреннюю гниль и духовное опустошение. Именно на этого персонажа, по аналогии с "Ночью перед Рождеством", "оседлает" главный герой телесериала, оказываясь в эпицентре неразрешимых проблем.
Безусловно, это не буквальная адаптация, а дерзкий авторский подход к заявленным Гоголем темам. На протяжении восьми эпизодов зритель становится свидетелем эволюции Шиллера – запуганного бюрократа, тайно увлекающегося утопическими романами английских писателей. В этих порывах угадывается глубокое сострадание к российской действительности, тоска по справедливости, то, что принято называть душой интеллигенции. Именно это чувство, эта невысказанная обида, заставляет персонажа совершать поступки, которые кажутся абсурдными, но скрывают в себе зерно истины.
Город N предстает перед нами как гротескная панорама российской жизни, где каждый персонаж является олицетворением пороков общества. В погоне за Чичиковым обитатели города раскрываются во всей своей неприглядной сущности, с каждым разом все больше склоняясь к злоупотреблениям. Вскоре, заложники системы, вынуждены склониться перед произволом власти, возводя себя в ранг господ. Однако, и здесь не обходится без гоголевского сюрреализма: простого, российского человека убеждают в его влиянии, в его статусе, что приводит к комическому, предрешенному финалу.
Хабенский, исполнивший роль Чичикова, наделяет его демоническим образом, который лишь намекался Гоголем, акцентируя внимание на двойственности его натуры. Вокруг образа вертится вопрос: как обыденный служащий может обладать столь огромным влиянием, в чем кроется секрет его власти? Кажется, что Чичиков – это не просто мошенник, а воплощение самой сущности российской души, запутавшейся в сетях амбиций и жадности. Не проходит и времени, как, казалось бы, невинный Ваня, становится все более черствым и безразличным, подобно окружающим его городским обитателям. Эпилог романа звучит как горькое признание о том, что души, закостенели и, кажется, обречены на вечное забвение. При этом, проницательность и наивность проявляется в изречениях Бобчинского и Добчинского, которые словно подсвечивают правду, но не могут ее сформулировать. Открытый финал позволяет зрителю самостоятельно разрешить возникшие вопросы, подталкивая к собственным размышлениям.
Создатели проекта, избежали желания перекроить классику, не стали превращать ее в триллер, наделяя Чичикова чертами Дракулы. Сохранение исторического контекста, воссоздание костюмов и манер поведения, является стремлением к воспроизведению атмосферы первой половины XIX века.
Телесериал рекомендован всем ценителям русской литературы, тем, кто не просто смотрит экранизации, а читает оригинальные произведения, тем, кто интересуется критическими интерпретациями и глубоким анализом. Только при наличии базовых знаний, зритель сможет в полной мере оценить масштабы творения и глубинную многослойность.
Среди плеяды выдающихся классиков русской литературы, имя Николая Васильевича Гоголя занимает в моем личном рейтинге поистине лидирующую позицию. Трудно найти среди гениев словесной палитры прозаика, способного сравниться с его уникальным даром, хотя, возможно, Довлатов, в определенном смысле, способен предложить альтернативный взгляд. Но, разумеется, подобное утверждение – лишь личный, субъективный вывод, открытый для оспаривания и дискуссий. Позвольте же перенестись в сферу кинематографических интерпретаций гоголевского наследия.
Дело в том, что произведения, созданные более двух столетий назад, сохраняют удивительную актуальность, резонируя с современными реалиями. И даже несмотря на существование качественных экранизаций, рука по-прежнему тянется к первоисточнику – к книге, к изначальному тексту. Ведь никакая, даже самая филигранная работа оператора, восхитительная игра актерского ансамбля и точное соответствие первоначальному замыслу не способны передать тот неповторимый колорит, ту магическую силу, заключенную в гениальном слоге классика.
Однако, это не умаляет достоинств созданных адаптаций. Сериал «Дело о Мертвых душах», увиденный мною в 2005 году, вызывает во мне спектр ощущений, порой странных и трудноопределимых. Режиссер Павел Лунгин, отходя от общепринятых рамок, обозначил свою работу как «фантазию», определение, которое, на мой взгляд, не вполне отражает суть. Не убеждает и утверждение о том, что это – «поэма», как утверждали некоторые критики. Для меня очевидно лишь одно: Лунгин сознательно избежал проторенных путей, стремясь к максимальной близости к рукописному оригиналу. Его путешествие было сложным, многогранным, пронизанным авторским видением. И вот перед нами – достаточно оригинальное произведение, оставившее после просмотра приятное, хотя и неоднозначное впечатление.
Помню, первую серию я смотрел с заметным внутренним сопротивлением. Меня возмущала картонность декораций, наигранность актерской игры, непредсказуемость сюжетных поворотов, которые навевали мысли о необходимости консультации психиатра для всех, кто принимал участие в создании фильма. Но, вопреки ожиданиям, проявив немалое упорство, я продолжил просмотр. Интрига постепенно затягивала, сюжет разворачивался, и я, к собственному удивлению, был захвачен происходящим. К финалу сериала я чувствовал нечто, близкое к обожанию. Я, наконец, начал постигать замысел режиссера, понимая и нарочитую театральность, и безумие, и даже некоторую провокационность постановки – все это создавало специфическую атмосферу, служащую для более глубокого осмысления исходного материала.
Каждый персонаж был переосмыслен в соответствии с режиссерским видением, но при этом сохранены его ключевые, фундаментальные характеристики, присущие гоголевскому первоисточнику. Это было сделано с таким мастерством, что попытки квалифицировать подобное как отход от оригинала кажутся неуместными. Скорее, это – попытка представить персонажей глазами режиссера, во всей полноте их недостатков, тех пороков, которые великий автор щедро наделил своими героями, пороки, ставшие впоследствии нарицательными.
Помимо бессмертных персонажей, тесно связанных с «Мертвыми душами», в сериале проскальзывают отголоски "Шинели", "Носа", "Вия", "Ревизора", "Невского проспекта". Если Гоголь создавал портреты гротескных "рож", то Лунгин преобразил их в более тонкие, многослойные "хари" – и здесь, согласитесь, разница ощутима, в первую очередь в эмоциональном плане. Если герои Гоголя вызывали усмешку и брезгливость, то те же образы у Лунгина провоцируют чувство отвращения. И это, безусловно, правильно – пороки должны вызывать неприятие, а не развлекать. Если у классика описание персонажей и их поступков часто гиперболизировано и выражено в гротескной форме, то в интерпретации Лунгина эти же герои становятся частью некой фантасмагории, плавно перетекающей в будни знакомых учреждений, напоминающих, в сущности, "палату № 6". Поначалу это может показаться диким бредом, но после просмотра остаются весьма занимательные ощущения, и не возникает желания сожалеть о потраченном времени.
Невозможно говорить о сериале, не упомянув об актерской игре. Хочется отметить Деревянко – искренне не думал, что он способен на подобную глубину. Что касается Гармаша? Его талант как актера был мне известен давно, но открытием стало осознание того, что он является истинно гоголевским актером. У каждого классика есть свои актеры, как у Достоевского – Инна Чурикова и Евгений Миронов, а Гармаш, вне всякого сомнения, оказался воплощением гоголевского духа. Ильин также проявил себя на высоте, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что все актеры были великолепны, и поэтому гораздо проще выразить общий восторг, не перечисляя их поименно.
8 из 10.
Недавно, увлекшись поисками сокровищ в архивах давно минувших лет, я вновь обратилась к сериалу 2005 года, и мое восхищение оказалось поистине безграничным. Как объяснить этот феномен? Почему столь яркий и самобытный проект заслуживает столь скромного внимания критиков и публики? Помните всеобщее ликование вокруг картины "Адмирал"? Тогда как же, господа ценители кино и профессиональные рецензенты, не удостоили вы своим вниманием этот выдающийся сериал Павла Лунгина? Ведь каждая его серия словно изысканное вино, предназначенное для долгих, вдумчивых дегустаций и наслаждения каждым глотком. Этот сериал способен покорить лишь тех, кто обладает тонким вкусом и пониманием истинного кинематографического искусства.
Позвольте же мне поделиться своими размышлениями. Сценарий, искусно сплетенный Юрием Арабовым, представляет собой восхитительный сплав, аллюзии и интерпретации произведений Николая Гоголя, выполненный с поразительной изобретательностью и мастерством. И, возможно, я не ошибусь, если увижу в этом проекте отголоски новаторских работ Нины Садур, чья смелость и новаторство проложили путь для многих последующих интерпретаций.
В сериале доминирует безупречная проработанность каждой детали – от декораций и реквизита до аутентичных костюмов. На стенах висят настоящие ружья, что является редкостью в современном кинематографе. Не часто ли мы видим, чтобы режиссеры столь пристально заботились о создании атмосферы и концепции декораций? Сегодня актеры зачастую довольствуются просто запоминанием текста, даже классического. А у Лунгина Ноздрев можно найти, небрежно почивающим в конюшне, в доме Плюшкина отсутствуют стены, а стол Собакевича ломится от яств, словно праздничная трапеза. Городничий, захлебываясь в роскоши, скатывается к безумию. Гоголевские типажи, словно увеличенные и искаженные зеркала, выходят на большой экран, обретая новую, притягательную форму.
Однако мир этого сериала населен не только злодеями и разбойниками. Даже у Арабова, столь жестокого и карающего провинившихся, есть свое, своеобразное понимание чести. Собакевич способен на детские, жалостливые ноты, словно плач ребенка, отставленного в дворовой игре, а Плюшкин способен тронуть своей сентиментальностью. Безусловно, каждый актер отдал фильму все свои силы, все свое мастерство, продемонстрировав высочайший профессионализм.
Особого внимания заслуживает великолепно снятая сцена встреч Шиллера с каждым действующим лицом, связанным с делом Чичикова. Мое сердце покорил Плюшкин в исполнении Ярмольника. До этого момента он оставался для меня актером одной роли в фильме "Барак", однако теперь я без сомнений могу заявить о его одаренном таланте, его актерском великолепии. Павел Деревянко, демонстрирующий все новые грани своего мастерства, также вызывает неподдельный интерес, особенно после его работы над фильмом «Обратная сторона луны».
Я убеждена, что этот сериал – вершина творчества Павла Лунгина! Встречаются ли часто Мастера, способные столь искусно перенести на экран всю атмосферу и дух гоголевских произведений? Браво, Мастер! Здесь переплелись призраки Гоголя и Булгакова, величественный Канцлер, сам Федор Достоевский, и город Н – словно мрачная панорама самых постыдных и ничтожных человеческих пороков, затерянная в густом, желтом тумане (как на полотнах Босха!). А сцены бала напоминают феерическое представление цирка Дю Солей, где одновременно сосуществуют радость и страх, восторг и тревога.
В итоге мы видим, к сожалению, знакомый и печальный финал, знакомый русскому народу – ворованное остается ворованным, а наказание падает на невиновного. У каждого режиссера возникает желание соотнести гоголевское наследие с современностью, выпустить на экран нечто острое и актуальное. И Лунгину это, без сомнения, удалось блестяще! Браво, великолепный режиссёр!
Рекомендуем к просмотру
 fictionFLOW
fictionFLOW